

Далеко не всем людям удается сразу выбрать профессию по душе. Кто-то зарабатывает хорошие деньги, но не получает удовольствия, другим же нравится работа, но сам род деятельности кажется бессмысленным. Бывает и так, что человек находит дело, которое любит всем сердцем, и достигает в нем больших высот, но это требует настолько сильных эмоциональных вложений, что серьезное выгорание не заставляет себя ждать.
В прошлом подобное случилось и с редактором MSK1.RU Аленой Нефедовой. Прежде чем стать журналистом, Алена профессионально занималась музыкой, училась в именитом столичном заведении и была лауреатом международных конкурсов. Алена поделилась с нами воспоминаниями о периоде ее жизни, который она до сих пор старается забыть. Публикуем ее искреннюю и эмоциональную колонку о том, как в топовых заведениях столицы обучают будущих академических музыкантов.
У каждого человека есть свое темное прошлое, о котором он старается не вспоминать. Так вышло, что для меня им стал период, когда я была профессиональным музыкантом. Начиналось это всё весьма стандартно: вручили крошечную скрипку в четыре года, отправляли на конкурсы, растили будущего солиста, но к подростковому возрасту я переключилась, и — боже, какая ирония — захотела стать журналистом. Я училась в МГУ, читала модные в то время издания и мечтала напроситься к ним на стажировку. Но потом меня перемкнуло — иначе не скажешь — и я вспомнила, что в раннем детстве мечтала о музыке.
Мне стало тревожно: вдруг это то самое «призвание», которое я потеряла? Произошла череда событий и судьбоносных встреч, и я решила поступить в музучилище, гордо бросила университет и засела на год дома — играла целыми днями, чтобы вернуть форму, утраченную за несколько лет. Заодно сменила скрипку на альт (если коротко, это как скрипка, только чуть побольше), наняла репетитора и весь год занималась исключительно этим. Поступить удалось, и в 23 года я переступила порог Гнесинки в качестве студентки.
Дикий эйджизм
Сразу должна оговориться: то, о чем я рассказываю, относится не только к этому заведению, а к индустрии классической музыки в целом — так уж это устроено у нас в России или, по крайней мере, в топовых училищах Москвы. Подобная система складывалась даже не годами, а десятилетиями, поэтому и меняться она будет долго.
Меня не хотели брать в первую очередь из-за возраста: обычно в училище идут дети после 9 класса — моим однокурсникам было в среднем по 16 лет. Пропустить этап колледжа нельзя — без него невозможно попасть в консерваторию, потому что не хватит ни технической, ни теоретической подготовки. А я хотела заниматься именно «большим спортом»: окончить лучшее заведение, играть в лучших оркестрах, заниматься именно академической музыкой, а не эстрадной — к этому лежала душа.

Меня взяли именно благодаря лютому рвению: только сейчас я понимаю, что была абсолютным фанатиком — это в целом свойственно творческим людям, но я по характеру еще и «бульдозер», способный работать за целую толпу. И вот, спустя год подготовки, мне удалось поступить в одно из лучших музучилищ страны — и тут выяснилось, что я слишком старая для этого и «вряд ли уже чего-то достигну». В 23 года!
Об этом напоминали все: преподаватели постоянно подтрунивали, говорили: «Ну куда ты-то прешь в твоем возрасте». Однокурсники тоже меня сторонились, пытались как-то дразнить, но я понимала, что это всего лишь дети и не обижалась. А вот почему себя так вели взрослые педагоги — большой вопрос. Они высказывались и по поводу моей «полноты»: тогда я весила 55 кг при росте 162. Почему-то люди знают, что подобное творится в балетных училищах, а про музыкальные никто не говорит. Собственно, мои годы борьбы с расстройствами пищевого поведения, гормональные сбои и постоянные скачки веса берут начало именно там.

Больше спорт, чем творчество
Профессии зачем-то принято делить на творческие и не очень. Журналистика, как и музыка, вроде бы относится к первой категории, но на самом деле между этими сферами нет вообще ничего общего. Классическая музыка гораздо ближе к большому спорту: ты всё время тренируешься и соревнуешься. А потом становишься либо олимпийским чемпионом, либо тренером средней руки.
Всё свое время приходится играть на инструменте, но не так, как представляют себе люди: вот стоит прекрасная девушка, развеваются на ветру ее волосы, а из-под смычка льется восхитительная мелодия. Ничего подобного. На самом деле ты либо пилишь гамму пять часов подряд, либо заучиваешь какой-то отрывок, оттачиваешь штрихи. Грубо говоря, стоишь в четырех стенах и на протяжении нескольких часов хреначишь три ноты. Буквально. Фа-ля-ре, ре-ля-фа. Фа-ля-ре, ре-ля-фа. Это делается не потому, что музыканты такие скучные, а чтобы создать необходимые нейронные связи и развить механическую память. Музыку «всаживают», вдалбливают в руки физическим путем.

Аналогом олимпийских соревнований служат конкурсы — правда, не для всех. Для самых талантливых это входит в своего рода негласные обязанности. К тем, кто не стал лауреатом хотя бы всероссийского состязания, относятся с нескрываемым пренебрежением. Не знаю, как это устроено сейчас, но в доковидные времена все старались ездить на международные конкурсы за границу. Я смогла дорасти и до них, но ценой убитого здоровья и расшатанной психики.
И еще один момент, который роднит музыку и спорт — это твои отношения с телом. Это твой главный рабочий инструмент, особенно руки. Если ты не занимаешься каждый день, ты теряешь технику, становишься слабее. Тут не действует принцип велосипеда «один раз научился и на всю жизнь» (правда, я тот самый человек, который разучился). То есть играть-то ты, конечно, сможешь, но механическая память будет утрачена. Особенно это касается всех скрипичных — у нас нет ладов и кнопок, только гладкий гриф. Если пропустишь несколько дней — начнешь фальшивить. Хотя не связанные с музыкой люди могут этого даже не заметить.

Адская атмосфера
Говорят, со временем психика «стирает» негативные воспоминания, оставляя только приятные. У меня наоборот: столько лет спустя я вспоминаю этот период своей жизни с содроганием. Такой тяжелой атмосферы я не встречала нигде.
С самого начала тебя начинают «закалять» — по сути, заниматься эмоциональным насилием. Каждый день тебе говорят, в чем ты плох, стыдят в самой бестактной форме. Каждый день приходится сталкиваться с прямыми оскорблениями. У меня до сих пор это в голове не укладывается.
— Вы дебилы, уроды, твари тупые! Тут не музыкальное училище, а школа для даунов! Объясни, придурок, как можно не слышать, что это другой аккорд? Мразь, смерти моей хочешь!
Именно эти слова — без прикрас — использовала пожилая преподавательница по сольфеджио и теории музыки. На самом деле, единственное, в чем ей можно выразить уважение — это богатство словарного запаса. Целыми днями оскорблять людей без единого матерного слова! Я бы так точно не смогла.

Я сидела на парах с вызывающим выражением лица. «Только скажи мне что-нибудь, карга старая», — думала я, держа под столом диктофон. Я не знала, что буду с ним делать, но он меня успокаивал. Однако такого рода преподаватели меня не трогали — видели, что я сильно старше остальных, и побаивались.
Если не считать того, что мне напоминали, что я была старой (23 года) и толстой (55 кг), со мной обходились без жести: меня не обзывали и не применяли физическое насилие. Но видеть, как это происходит с другими, было невыносимо. При мне одна из педагогов (к счастью, лично я с ней не пересекалась) кинула в 16-летнего мальчика связку ключей. В другой раз в него же бросили стулом, потому что он «плохо играл».

Самым стрессовым моментом были концерты. Сейчас, с высоты своего 30-летнего занудства, я думаю: а из-за чего столько слез? Кому вообще интересны студенческие выступления, кроме самих учеников и в лучшем случае их родителей? Но трагедии там нагоняли столько, что казалось, что это самое важное событие в жизни.
За кулисами ждали грозные преподаватели. Некоторые сразу у сцены орали на студентов: «Как это отвратительно! Мне так за тебя стыдно!» К сожалению, таких товарищей было немало. Просто представьте, что чувствует в это время ранимый подросток, который думает, что самая важная вещь в жизни — это учеба.

Атмосфера на тех этажах, где обитали струнники, тоже была не самой приятной. Мне навсегда врезалась в память 16-летняя виолончелистка, которая валялась на полу в коридоре и рыдала навзрыд, а через нее перешагивали другие студенты и спешили на занятия. Я попыталась ее успокоить, спросила, что случилось — преподаватель сказал ей, что она бездарность. И, опять же, с высоты взрослого человека, который живет обычной жизнью, это кажется какой-то ерундой. Но для подростков-музыкантов это было концом света.
Мальчик с другого курса — я его не знала — в итоге погиб, не выдержав давления. Несколько лет спустя, работая в новостях и зная о каждом, чья психика сломалась, я поняла, что в данной среде это был далеко не единичный случай.
«Школа жизни»
У меня была знакомая, которой я доверяла. Эта женщина работала в оркестре, но со сферой образования ее ничего не связывало напрямую. После поступления я пришла к ней и описала ситуацию. Она сказала, что подобное было и в этом, и в другом именитом заведении еще в советское время, когда она училась. Даже тогда психика многих подростков не выдерживала, но в мире музыкантов почему-то считается, что «так надо». И ее однокурсника десятки лет назад это тоже довело до смерти — не справился со стрессом.
— Понимаешь, ты вот взрослая, а они совсем еще дети, и не умеют испытывать серьезных эмоций. Как они могут сыграть драматическое произведение, если не знают, что это такое? — объясняла она мне тогда. — Им нужно искусственно раскачать психику, это специально делают. Они вырастут — и поймут, зачем это было. Главное, что их учат, и что благодаря этому они не расслабляются и действительно хорошо играют, наши музыканты — лучшие в мире.

Еще тогда мне это казалось чем-то неправильным, а сейчас я не знаю, как описать свои эмоции цензурно (нужно было внимательнее слушать ругань бабки на сольфеджио). Скорее всего, там просто идет передача боли и унижения от учителя к ученику, из поколения в поколение.
Очень многие там страдают стокгольмским синдромом — травматической связью, при которой жертва оправдывает насильника. Например, ту старушенцию, которая называла учеников «мразями», «дебилами» и «кретинами», все просто обожали, потому что «она дает по-настоящему хорошие знания». Но, если педагог способен опуститься до такого, разве это не обесценивает всю его работу?
Семь лет спустя, совсем в иной жизни, от сольфеджио в моей памяти остались только названия нот. А вот то, как она орала и била дверцей шкафа по стене — яростно, со всей дури, так, что замирало сердце, — я запомнила навсегда.

Абсурдные правила
Самое странное, с чем я столкнулась в Гнесинке — это какая-то чертова бюрократия. Ты погружался в мир общеобразовательных предметов, которые нередко мешали заниматься музыкой. Система была очень строгой: опаздывать нельзя, прогуливать пары тоже. Если пропускал одну — нужно было получить допуск на дальнейшие занятия в учебной части. Там сидели злобные карикатурные жабы, которые всем своим видом показывали, что ты никто — как это обычно и бывает с вахтерами. Допуск давали только за пропуск занятия по уважительной причине — например, из-за болезни.
Кстати, если ты сваливался с сезонным гриппом, тебя очень сильно ругали. Еще один совершенно немыслимый момент: тебе плохо, у тебя температура под 40, а на тебя орут в голос и говорят: «Какого хрена? Ты не имеешь права заболеть!». Я боялась простудиться так сильно, что именно там, будучи 23-летней, заработала себе диагноз «бронхиальная астма» — эта болезнь считается королевой психосоматики.

За пропуск трех пар могли отчислить — хоть за физкультуру, хоть за ОБЖ. При мне талантливого паренька выперли из училища именно по этой причине. Если опоздать хотя бы на 10 минут, это считалось пропуском. Поистине армейская дисциплина.
Несколько раз в неделю нужно было ходить на специальность — это когда ты тет-а-тет в классе занимаешься со своим основным педагогом — его ласково называли «шеф». Обычно конкретного человека выбирали еще до поступления, как и он присматривался к будущим студентам на консультациях в течение года. Дальше всё зависело от ваших личных отношений: у кого-то выстраивался тандем «джедай и падаван, только в стиле БДСМ», для других же это было сущим адом.
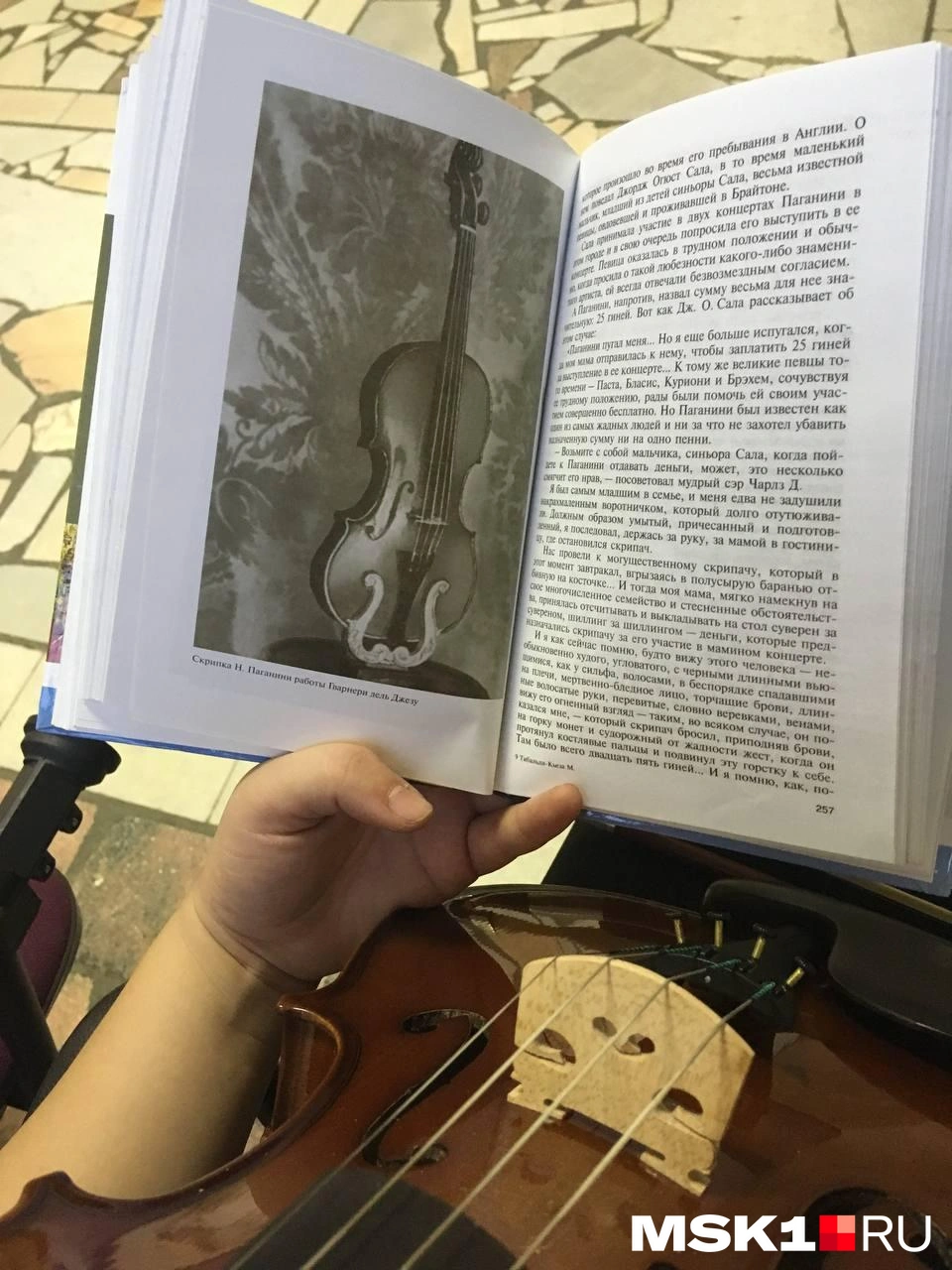
Два раза в неделю нужно было приходить на оркестр. В училище их было два: камерный и симфонический, я застала только первый. Помню, что дирижер был одним из немногих адекватных и вежливых людей в системе — он обращался со студентами как с менее опытными коллегами. Если бы не его репетиции, я не продержалась бы в этом аду и месяца.

Еще один важный момент — физкультура. Это было уже по-настоящему страшно: за нее действительно могли отчислить. А мурыжили там по полной, включая игру в волейбол и отжимания, которые противопоказаны музыкантам: можно повредить связки, и тогда всё, конец карьере. Физруков это не волновало.
Многие студенты пытались получить освобождение по состоянию здоровья — к 18 годам серьезные проблемы были почти у всех. После года «отсидки» в оркестре мой идеальный позвоночник превратился в вопросительный знак.

Моя карьера постепенно шла в гору: несмотря на долгий перерыв и разницу в возрасте, я добилась высоких результатов. После нескольких конкурсов в России мне предложили поехать в Австрию — на международный конкурс в Венской консерватории. Но просто взять и уйти с занятий даже ради конкурса не удалось: для этого должны были отпустить и подписать допуск все вышестоящие, начиная от физруков и заканчивая ОБЖшником.
Когда я принесла с десяток подписей в учебную часть, работавшая там мадам была очень недовольна, что меня отпустили:
— Это еще ничего не значит. Ты поедешь туда, если мы разрешим. Помни, что ты никто, и ничего не умеешь, кроме как на своей скрипочке пиликать. Нормальную профессию ты уже не потянула.
Как же хочется вернуться туда, будучи собой нынешней, и... ничего не сделать, потому что я не из тех, кто нападает на слабых и беззащитных. А говорить то, что я слышала, могут только очень слабые люди.

Если и плакать, то только в Вене
Когда ты музыкант и учишься в России, ты всё время у кого-то просишь разрешения. После череды волокит в училище, мне пришлось долго оформлять документы на выезд: профессиональные музыканты играют на мастеровых инструментах, для струнников желательно, чтобы он был старым, почти антикварным — такое дерево лучше передает звук. И стоит как хорошая машина, но это уже другая история.
Согласно российскому законодательству, инструмент, сделанный мастером в начале XIX века, можно вывезти из страны только с паспортом — специальной бумажкой, в которой написано, что он не представляет культурно-исторической ценности. В противном случае его могут конфисковать. Даже если ты купил этот инструмент за границей и ввез в Россию — всё, теперь он не твой. Он государственный.
Я очень долго ходила по всем инстанциям, мастера осматривали мой альт и думали, стоит ли признать его пригодным для вывоза.
— Дерьмо какое-то, а не инструмент, — в итоге сказали мне.
В той ситуации это было лучшее, что можно услышать.

После этого меня отправили в подвал, где человек на пленку отснял мой альт и спустя три дня выдал черно-белые кадры. На дворе стояла весна 2018 года — то есть тогда уже были смартфоны, интернет, запрещенные ныне соцсети и прочие радости жизни.
Несколько дней спустя таможенник остановил меня в зеленом коридоре аэропорта и попросил открыть футляр. Я спокойно показала ему все документы и фотографии.
— А почему они черно-белые? — нахмурился он.
Хороший вопрос. В общем, пограничник, будучи явно не силен в вопросах искусства, долго не мог понять, тот ли альт лежит в футляре, а снимки его только путали. Меня мурыжили где-то час, пока он не открыл уже мой паспорт и не увидел, что, по какой-то киношной случайности, я прописана по соседству с ним.
— Что ж ты сразу не сказала, что мы земели! — обрадовался он, словно я могла знать, где он живет. — Так вот кто у нас пиликает целыми днями, я на улице слышал. Ладно, проходи.
Так я попала в Вену. Конкурс прошел как в тумане, но я напиликала на третье место. Заработала почетный статус «лауреата международных конкурсов», выползла из консерватории и стала рыдать.
Я рыдала, глядя на бесконечно высокий шпиль готического собора. Рыдала, идя по брусчатке мимо огромных помпезных фонтанов. Рыдала, смотря на безмятежных туристов, на расслабленных горожан, на купающихся в воде уток. Я пыталась понять, почему единственное, что я люблю в этой жизни, причиняет мне так много боли. Я задавалась вопросом, как быть, если то, для чего (как мне казалось) я была рождена, не приносит мне ничего хорошего.

Именно там — в консерватории Вены — я увидела, как живут австрийские музыканты. Их никто не унижал, люди играли на любимом инструменте в свое удовольствие, никуда не спешили, ни за чем не гнались. От них не требовали «бежать изо всех ног, чтобы остаться на месте». Студенты просто учились делать свою работу, не становясь ни униженными, ни фанатиками, ни истериками.
Я узнала, что бывает иначе, но понимала, что подобного пути в России для меня нет — так уж это устроено у нас и в музыке, и в балете, и в большом спорте. А уезжать из страны я никогда не хотела — ни тогда, ни в обе волны релокации 2022-го. Я чувствовала себя в клетке, потому что была уверена, что ничего больше не смогу, ничего не полюблю, ничего не попробую. Как же я ошибалась.
Мое тело почувствовало западню, и на следующий день после возвращения домой у меня «отрубилась» правая рука. Я не смогла открыть бутылку молока, не смогла сжать кулак — не то что играть. От кончиков пальцев до лопатки меня пронзала сильная боль. Вскоре подключилась и вторая рука. Пришлось ходить по врачам, проходить кучу обследований. Мне так и не поставили диагноз — «выбирали» между ревматоидным артритом и волчанкой. Врачи строго приказали бросать это дело, чтобы не оказаться в инвалидном кресле через несколько лет, а тормозить развитие болезни стали уколами иммунодепрессантов.

Из училища пришлось отчислиться. Я испытывала огромное облегчение, но в то же время разрыв с музыкой стал самым тяжелым расставанием в моей жизни: несколько месяцев я не могла встать с кровати и ничего не хотела. Потом начала оживать. Путешествовать. Писать статьи (самая искренняя из них — именно эта). Я объездила полмира, вышла замуж, стала журналистом.
Сейчас мне почти 30 лет. Музыка кажется чем-то, что было совсем не со мной. Я рада, что мне удалось пережить это, но еще больше рада — что удалось освободиться. А диагноз, который так и не выбрали, оказался врачебной ошибкой из-за ложноположительного анализа — несколько лет спустя я узнала, что абсолютно здорова. На вопрос о том, что тогда случилось с моими руками, врачи не могут найти ответа до сих пор. Но в жизни произошло уже столько интересного, что к моменту, как я об этом узнала, не было даже мысли о том, чтобы вернуться.

Друзей из той сферы я растеряла: нам просто стало не о чем разговаривать, потому что все их разговоры сводились исключительно к музыке, а я выбрала свою собственную, единственную и неповторимую жизнь. Период обучения в Гнесинке на меня очень хорошо повлиял: во-первых, с тех пор я легко и быстро добиваюсь успеха, потому что, блин, прошла Афганскую войну и мне больше ничего не страшно и не трудно, а, во-вторых, я больше никому не позволяю показывать мне зубы, и не позволяю себя обижать.
Когда-то я читала исследование нейробиолога о том, что у профессиональных музыкантов на протяжении всей жизни активизируется определенная зона мозга, когда они слышат свой инструмент. Нервные импульсы мгновенно передаются в кончики пальцев, и человек физически ощущает мелодию их подушечками — словно представляет, что играет сам. Это правда так. Любые звуки скрипки и альта я пропускаю через себя физически, чувствую их руками, подбородком и сердцем. Буквально. Это всё, что мне осталось от той жизни.
Кажется, музыка уже никогда не уйдет из меня.

Почитайте также наше интервью с артистом балета Евгением Жуковым. Мужчина рассказал MSK1.RU, как живут и чем увлекаются танцоры в перерывах между спектаклями.
Также мы публиковали историю семьи музыкантов из Екатеринбурга: родители и все дети в ней любят музицировать для души. Посмотрите, как пять творческих человек уживаются в небольшой квартире.
Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».









